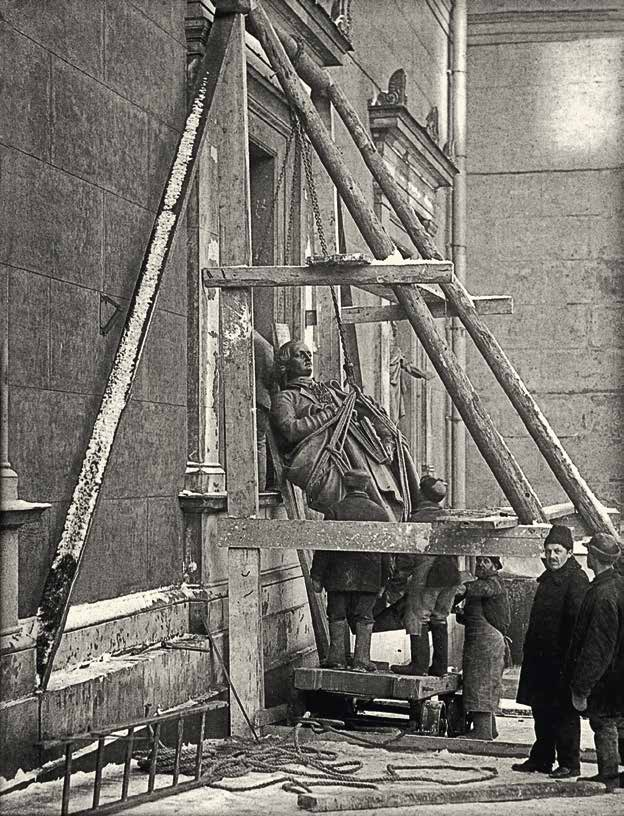250-летнему юбилею со дня рождения художника посвящена выставка, которая открывается в Эрмитаже в декабре 2024 года.
Каспар Давид Фридрих (1774–1840), ведущий художник немецкого романтизма, особенно известен своими символическими пейзажами. Фридрих и его современники почти совсем не представлены в европейских собраниях. Редкое и счастливое исключение — Эрмитаж, где хранится одна из лучших коллекций произведений живописца (девять картин и шесть рисунков).
Каспар Давид Фридрих, его связи с прусским королевским и русским императорским домами, тема дружбы, которая на протяжении долгих лет связывала немецкого мастера и русского поэта Василия Андреевича Жуковского, популяризатора немецкой романтической литературы и изобразительного искусства в России и русской культуры в Германии, — в фокусе выставки. Кроме того, будут демонстрироваться графика В. А. Жуковского и работы художников, которые находились с ним в тесном творческом контакте. Хронологические рамки экспонатов выставки определят годы творчества К. Д. Фридриха и В. А. Жуковского.

Закат солнца (Братья)
Германия. Между 1830 и 1835
Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» — Зимний дворец, Николаевский зал. 8 декабря 2024 — 30 марта 2025.