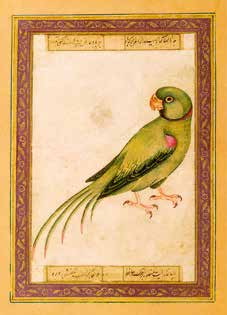Выставка «Скульптура Флоренции в ХV веке», открывшаяся 29 марта в Пикетном зале Зимнего дворца, еще раз показала универсальность коллекций, хранящихся в музее.

Хотя научный каталог итальянской скульптуры Возрождения вышел в 2007 году, многие произведения оставались (и остаются) в хранилищах и выставляются только эпизодически. Даже не затрагивая мраморные рельефы и бюсты в основной экспозиции, для временной выставки удалось собрать 25 работ в терракоте, гипсе, майолике, дереве. Дополнительным доводом явилось приобретение шести рельефов с изображением Мадонны с Младенцем из коллекции петербуржцев Ларисы и Олега Шушковых в 2019 году. К сожалению, две статуи из приходской церкви в Сан-Дженнаро (Италия, провинция Лукка), которые предполагалось показать в Петербурге и которые были включены в каталог, так и остались в Италии.
Как известно, колыбелью ренессансного искусства в начале ХV века стала Флоренция, причем тон задавали именно скульпторы. Филиппо Брунеллески, Лоренцо Гиберти, Донателло, а позднее Лука делла Роббиа, Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Росселлино, разработали новый подход к изображению человека и окружающего его мира, в том числе создав так называемый живописный рельеф. На путь ренессансного развития живописцы встали чуть позднее, и не исключено, что под воздействием своих коллег-ваятелей. Мраморные рельефы основоположников ренессансного стиля очень редки (Эрмитаж располагает только одной такой композицией, созданной Росселлино). Но крупные скульпторы работали вместе с учениками и помощниками, которые повторяли их произведения в дешевых материалах, что, очевидно, тоже приносило неплохой доход. В определенном смысле такие повторения открывали новые художественные возможности. Рельефы расписывались чаще всего в живописных мастерских, а затем получали оригинальные рамы, тоже создававшиеся специалистами в своем деле. Многие произведения, представленные в экспозиции, сохранили оригинальные обрамления и тот вид, в котором они могли использоваться в домашних капеллах зажиточных флорентийцев.

В период подготовки выставки была проведена большая реставрационная работа. Ряд расписанных рельефов расчистили еще в 1970–1980-х годах, работа над другими продолжалась практически до момента создания экспозиции. В результате во многих случаях открылись оригинальная раскраска и сохранившаяся позолота, активно использовавшаяся мастерами ХV века. Деревянные рамы также были укреплены и расчищены реставраторами Эрмитажа.

В итоге посетители выставки не только могли видеть рельефы, созданные в мастерских Лоренцо Гиберти, Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Росселлино, но и получили возможность сопоставлять их между собой. Так, рельеф мастерской Дезидерио «Мадонна, поклоняющаяся Младенцу», восходящий к мраморной композиции из Музея Виктории и Альберта (Лондон), экспонировался в двух репликах. Одна, поступившая из собрания А. К. Рудановского в 1920 году, отличается тонкой росписью с обильным использованием позолоты (кат. № 6). Рельеф, приобретенный недавно из коллекции Шушковых, практически лишен позолоты, она заменена охрой, красочная гамма — более простая (кат. № 7). Вероятно, данный вариант мог создаваться для менее обеспеченных заказчиков и стоил дешевле.
Аналогично различаются две композиции, изображающие Мадонну с Младенцем и святым Иоанном Крестителем, очевидно — повторяющие несохранившийся мраморный рельеф Бенедетто да Майано. Графу П. С. Строганову принадлежала реплика, деликатная по живописи, богато позолоченная и в чем-то напоминающая о картинах Сандро Боттичелли. Стоит отметить также хорошо сохранившееся деревянное обрамление (кат. № 10). Другой подобный рельеф кажется более грубым, что может объясняться поздними записями. Позолота здесь тоже отсутствует. И даже рама, хотя она и оригинальная, производит впечатление довольно примитивной (кат. № 11).
С именем Луки делла Роббиа со времен Джорджо Вазари связывается изобретение майолики, что позволило значительно обогатить палитру произведений скульптуры, сделать ее яркой и привлекающей внимание даже в полумраке средневековых храмов. Основное произведение мастерской делла Роббиа в Эрмитаже — монументальный алтарь «Рождество» — естественно, осталось в основной экспозиции музея. Зато в Пикетном зале удалось впервые показать редкую статую святого Себастьяна, привязанного к стволу дерева и пронзенного стрелами. Согласно недавним исследованиям, ее автором мог быть Марко делла Роббиа, а не его брат Джованни, как считалось ранее.
Наконец, отдельный раздел выставки составили бюсты из терракоты, так или иначе отразившие влияние Андреа Верроккьо, крупнейшего скульптора третьей четверти ХV века во Флоренции. Наиболее близок к работам мастера бюст Христа, который довольно точно повторяет облик Спасителя из группы «Христос и апостол Фома», созданной Верроккьо для фасада церкви Орсанмикеле во Флоренции и ставшей образцом для многих скульпторов, вплоть до первой четверти ХVI столетия.

Флоренция. Вторая половина 1450-х. Терракота с раскраской
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № Н.ск-2786
ФОТО: © ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2022
Наиболее интересным произведением этого раздела выставки остается бюст юного святого, чье имя не удалось установить из-за отсутствия атрибутов. Иконографически он восходит к образу апостола Фомы из упоминавшейся уже группы Верроккьо. В то же время по качеству исполнения он превосходит аналогичные бюсты юных святых (в музеях Лондона и Берлина). Тонкая проработка лица юноши и прядей его волос позволила предположить, что бюст создан не только в мастерской Верроккьо, но и при его непосредственном участии. В то же время оказалось, что «Юноша-святой», принадлежавший великой княгине Марии Николаевне, дочери Николая I, некогда приписывался Леонардо да Винчи. Как известно, Леонардо провел в мастерской Верроккьо не менее семи лет (с 1469 по 1476 год), причем в конце этого срока скорее как полноправный сотрудник, нежели просто ученик. Он должен был в то время заниматься и скульптурой, о чем свидетельствуют заказы на конные монументы, которые он принимал позднее. Историки искусства много раз предлагали приписать Леонардо различные произведения пластики, однако, за исключением бронзовой статуэтки всадника на вздыбленном коне (Будапешт, Музей изобразительных искусств), эти атрибуции кажутся недостаточно обоснованными. Высокое качество исполнения бюста из Эрмитажа, а также сходство лица юноши с лицами ранних Мадонн Леонардо позволяют задуматься над возможностью участия мастера из Винчи в работе над бюстом.Выставка, первоначально планировавшаяся на 2020 год, как кажется, оказалась очень востребованной в 2022-м. И дело здесь не только в том, что было больше времени на подготовку произведений и издание каталога. Рассматривая трогательные и в чем-то наивные образы Младенца Христа, Богоматери, других святых, посетитель выставки не только открывал для себя светлое искусство Раннего Возрождения, но и невольно оказывался в атмосфере доброго и вечного, которого нередко не хватает в наше сложное время.